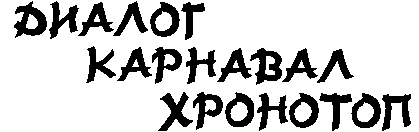Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина
ISSN 0136-0132
Диалог. Карнавал. Хронотоп. → 2000 → 3-4
М.М.Бахтин в контексте русской культуры ХХ в.
59
С.А.Шульц
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЭТИКА И ГЕРМЕНЕВТИКА
(Из истории русской науки о литературе)
Судьба каждого литературоведческого (и вообще относящегося к гуманитаристике) термина такова, что он с неизбежностью несёт несколько значений. Так обстоит дело и с термином «историческая поэтика». Во-первых, историческая поэтика — область литературоведческих исследований, обращённая к проблеме становления и развития различных форм художественной мысли (прежде всего в сфере жанра). Во-вторых, это система определённых методологических принципов, исследовательских стратегий, нацеленных на решение указанных выше проблем. В-третьих, это сам литературный материал в его внутренней логике, с присущим ему — как эпифеномену «мыслящих миров» (Ю.М.Лотман) — самосознанием, «памятью жанра» (М.М.Бахтин).
В последнее время интерес к проблемам исторической поэтики в отечественном литературоведении заметно вырос. Одним из ключевых симптомов в этой связи послужило переиздание трудов классиков отечественной гуманитарной мысли — А.Н.Веселовского, Ф.Ф.Зелинского, Вяч.И.Иванова, О.М.Фрейденберг, В.Я.Проппа, М.М.Бахтина, существенный интерес, проявляемый научным сообществом к их осмыслению.
А.Н.Веселовский мечтал о едином, сугубо линейном 1 и унитарном проекте исторической поэтики. Сегодня, когда наследие позитивизма почти окончательно утратило свою привлекательность, очевидно, что это всё-таки невозможно. Условность и относитель ность любой методологической установки (в которых исследова телю необходимо отдавать себе отчёт, чтобы яснее представлять себе границы и потенциал своих возможностей) — первый залог того, что всякое гуманитарное построение (при аксиоме его ответственности и добротности) — только один из проектов, вступающий с другим в отношения по принципу «дополнительности». Иначе говоря, как ни банально это прозвучит, различные методо
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.А.Шульц
Историческая поэтика и герменевтика
«Диалог.Карнавал.Хронотоп»,2000, №3—4
М.М.Бахтин в контексте русской культуры ХХ в.
60 61
логические подходы и принципы внутри одной и той же области знания позволяют создавать различные видения того же самого вопроса. (Различные языки описания поэтому должны вступать в спор не непосредственно и сразу, а при условии их «переведён ности» с одного на другой; здесь необходимо различать, где идёт речь о неучтённых противоречиях внутри определённой системы мысли, а где имеет место принципиальная «непереводимость» и самоценность какого-либо положения).
Поэтому выше не случайно говорилось именно о целой системе приёмов анализа и интерпретации, присущих исторической поэтике. Скажем, труды Ф.Ф.Зелинского, посвящённые «жизни идей» в культуре, работы Вяч.И.Иванова о Дионисе и прадионисийстве (речь идёт и о его известной монографии, и о примыкающих к ней небольших самостоятельных статьях), хронологически близкие А.Н.Веселовскому, базируются уже совсем на других принципах, чем труды первотворца исторической поэтики в России. В противоположность идеалам чистой фактографии и беспристрастности учёного Иванов, в частности, настаивает на неизбежности и важности «общего идеологического направления исследователя» 2, на «идеализме» последнего: «Идеализм исследовате ля сказывается, на наш взгляд, вовсе не в априорном отрицании материальной подосновы душевно-духовного продукта, рассматриваемого генетически, как думают многие, но в измерении его соизмеримыми ему величинами вневременного общечеловечес кого сознания, в склонности искать в изучаемых явлениях духа выражение имманентной им perennis philosophiae и угадывать в них всеобщую и непреходящую ценность» 3.
Ф.Ф.Зелинский (близкий символистским кругам) также
учитывал и не скрывал вектор собственных мировоззренческих
и философских позиций, не боясь «эссеистических» «отступлений»
(установка на новую рецепцию античности как «славянский
Ренессанс»; заметны и его католические симпатии и т.д.). И
Иванов, и Зелинский ощущали себя живыми творцами истории
культуры, они сочетали необходимую исследователю установку
на объективность с философской и эмоционально-духовной
эмпатией (однако в отличие от литератора и философа Иванова
Зелинский всё-таки оставался прежде всего филологом в классичес
ком смысле этого понятия). Веселовский, будучи одним из
значительнейших учёных, подходит к явлениям в манере
«объективизма», без эксплицирования собственного мировоззрения (это
не
значит, что оно отстуствовало), как бы — далее нет никакой
иронии или уничижения — в духе бахтинского афоризма «как
если бы меня не было». Просто идеалы «рокового теоретизма»,
почтенной позитивистской науки (принёсшие свои выдающиеся
результаты) и сменяющего их типа дискурса, осознающего себя в
рамках «наук о духе», разнятся. Разные исторические эпохи,
стоящие за обозначенными идеалами, по-своему определяют вид
научности
4.
Иванов, предвосхищая сдачу позиций естественно-научного мышления и «гуманитарный бум», не боится поставить вопрос о том, что так называемая «высшая» (т.е. поднявшаяся над эмпирикой) герменевтика «последовательно утрачивает нечто из <…> положительной достоверности результатов по мере того, как она восходит по ступеням обобщения от эмендации и интерпретации текста к объяснению и оценке всего произведения, далее — всего автора, потом всего представляемого им направления и литературного рода, наконец — к характеристике духа эпохи и даже к философскому истолкованию той или другой стороны античного (в случае Иванова — С.Ш.) сознания и творчества в целом»5. Эти страницы его труда «Дионис и прадионисийство» явно и настойчиво обращают историческую поэтику к философской герменевтике. Заметим, что один из несомненно важных источников мысли Иванова — «Рождение трагедии из духа музыки» Ф.Ницше — текст заведомо «ненаучный», полностью философско-гер меневтический, в то время как сам Иванов при всём своём «идеализме» и антипозитивизме сохраняет верность идеям научной достоверности и выверенности. Сделанная им (и Зелинским) прививка (в равной мере прививка и предвосхищение) к русской исторической поэтике оказалась весьма вдохновляющей.
В 1930—40-е годы у нас появляются работы, учитывающие методологические принципы как идущие от Веселовского, так и отчасти от Зелинского и Иванова (разумеется, все эти имена мы употребляем здесь скорее как символы). Скажем, известная работа В.Я.Проппа «Исторические корни волшебной сказки» апеллирует к дохудожественному генезису определённой формы сказки — обряду инициации; при этом Пропп балансирует между чисто каузативным, детерминистским объяснением объекта исследования и более сложным истолкованием, основанным на духовно-смысловых соответствиях сказки и породившего её ритуала. Несколько более каузативны и «объясняющи» (в дильтеевском
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.А.Шульц
Историческая поэтика и герменевтика
«Диалог.Карнавал.Хронотоп»,2000, №3—4
М.М.Бахтин в контексте русской культуры ХХ в.
62 63
смысле) штудии О.М.Фрейденберг.
Главным последователем линии Зелинского и Иванова стал, безусловно, М.М.Бахтин (кстати, Зелинский был его университетским преподавателем) 6. Он основывает свой проект на принципиальном отталкивании от всех форм каузальности и детерминизма. Его интерпретация истории романа и серьёзно-смеховых жанров построена в первую очередь на выявлении сущностной духовной связи между ними и феноменом карнавала, принимает в расчёт противоречивые «приключения» смысла в многовековой речевой практике 7. Понятия «большого времени» и «контекста», которые эксплицированы в позднейших заметках «К методологии гуманитарных наук», акцентируют глубинную, максимально вдохновляющую бахтинский поиск соотнесённость его концепции исторической поэтики с философской герменевтикой. Задача «синтеза философского мировоззрения с конкретностью и объективностью исторического изучения» 8 была поставлена им ещё в работе «Формальный метод в литературоведении» (1928). Тот интерес к стихии речевого общения, который проявился у Бахтина уже в 1920-е годы, также соотносим с герменевтическим вниманием к слову.
Бахтин способен устанавливать самые неожиданные и парадоксальные историко-литературные параллели, прочерчивать отрезок между, казалось бы, весьма отдалёнными литературными точками (минуя опосредующие), что направлено на раскрытие нового смысла рассматриваемых явлений: нового не ради нового, а ради «глубины» проникновения, «преодоления чуждости чужого без превращения его в чисто своё»9. Например, намечая сближение Достоевского с двумя далеко отстоящими от него по времени литературными памятниками, Бахтин замечает: «Во всей мировой литературе наиболее близкими к Достоевскому по духу и по форме два прозведения: "Климентины" и "Симплициссимус". При том "Климентин" он, вероятно, вовсе не знал, а "Симплицис симуса", вероятно, знал только понаслышке, из вторых рук. Какие же основания для сопоставления (при отсутствии реальных контактов)? Смысловая (художественно-смысловая) конвергенция и единство традиции» 10.
Налицо симптомы сближения исторической поэтики с
«интертекстуальностью», понятой исходя из масштабного
философско-экзистенциального задания как своего рода пафоса
(исследователь по большому счету решает проблему смыслополагания
как наделения мира и явлений мира значениями и проблему
собственной экзистенции как экзистенции человека культуры,
причастной общему потоку жизни).
Принципиальным моментом для Бахтина является постулиро вание внутреннего самосознания жанров, которые поняты им не как чисто формальные образования, а как органические экзистенциально-мыслительные («мыслящие») модели; это подчёркнуто, в частности, в работе «Проблема речевых жанров», где выделены первичные (обиходно-разговорные) жанры и надстраивающи еся над ними и с их помощью вторичные, литературные — голоса и медиумы живой жизни, выступающие во всей полноте их исторических и культурных связей. Жанр, таким образом, выступает гносеологическим и онтологическим феноменом. Если учесть, что Бахтин стремился преодолеть троякий разрыв между миром жизни, миром науки и миром культуры и что — коррелирующий момент — онтологическая проблематика в философской традиции XX века (в позднем неокантианстве: Н.Гартман, отчасти Э.Кассирер, — но прежде всего в поздней феноменологии, близкой Бахтину не в меньшей степени, чем неокантианство) вбирает в себя гносеологическую (за счёт отказа от противопостав ления сознания и бытия), то бахтинскую теорию жанра допустимо назвать целиком онтологической. Философское беспокойство Бахтина-литературоведа — не просто изгиб его мысли, который можно учитывать, а можно и не учитывать, это самый «конститу тив» его научного творчества.
В 1990 году В.Е.Хализев так попытался обозначить философские основы исторической поэтики: «Её смысл — <…> прежде всего общественно-нравственный, и в этом отношении "внеакадемический", выходящий за пределы чисто профессиональные. Историческая поэтика призвана удовлетворить потребность общества в осмыслении многовековой словесно-художественной культуры человечества как феномена необычайно разнообразного, но в то же время — обладающего целостностью» 11. Но что понимать под целостностью? Унитарное единство «магистральной линии» (как Веселовский) или достаточно противоречивый, неравный самому себе динамический ансамбль смыслов, понятых в определённом философском ракурсе?
Бахтин предложил свой ответ на одну из основных проблем исторической поэтики — как специфицировать каждое отдельное её звено при постулировании подразумеваемой целостности, как
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.А.Шульц
Историческая поэтика и герменевтика
«Диалог.Карнавал.Хронотоп»,2000, №3—4
М.М.Бахтин в контексте русской культуры ХХ в.
64 65
выстроить ряд самодвижения и внутренней динамики литератур ных форм таким образом, чтобы единство литературной эволюции, укоренённой в живой истории и в культуре (частью которых является, по Бахтину, и литературовед как личность), в то же время не зачёркивало бы индивидуальную специфику произведения.
Интересно, что В.Б.Шкловский, полемизируя с идеей «панкарнавальности» и упрекая Бахтина в излишнем подчёркивании «сходства сходного», дал включающей в себя эту полемику книге подзаголовок «О несходстве сходного» 12, т.е. сам подчеркнул только одну сторону сопоставления.
Ответ Бахтина на то, что было названо проблемой специфика ции, заключается в том, что предполагаемая целостность — контекст и «большое время» — обладает многообразными внутренними границами («различениями», если использовать термин постструкт урализма), она динамична, дискретна и принципиально не равна сама себе. Более того, её существенным признаком является своего рода ответственная релятивность (здесь, безусловно, велико влияние неокантианства) — такое понимание собственной относитель ности (собственных относительностей), которое вызвано желанием избежать догматических подмен и унификаций, осознать все возможности, отпущенные данной стратегией.
Бахтинская методология даёт возможность выстраивания проектов, так сказать, фрагментов исторической поэтики из разных точек литературного процесса, понимая их в качестве эпицентра. Связь между эпицентром и его контекстом двоякая: как первый задает определённую перспективу и ретроспективу истолкования, так и второй помогает первому реализовать свои смыслы13.
В 1970—90-е годы вышло немало новых, в том числе
фундаментальных, работ по исторической поэтике. Это, прежде
всего, книги Д.С.Лихачёва «Развитие русской литературы
X—XVII веков. Эпохи и стили» (Л., 1973), «Поэзия садов. К семантике
садово-парковых стилей» (Л., 1982), «Историческая поэтика
русской литературы» (СПб.,
1997)14, С.С.Аверинцева «Плутарх и
античная биография. К вопросу о месте классика жанра в
истории жанра» (М., 1973), «Поэтика ранневизантийской литературы»
(М., 1977), «Риторика и истоки европейской литературной традиции»
(М., 1996), Е.М.Мелетинского «Поэтика мифа» (М., 1976),
«Средневековый роман» (М., 1983), «Введение в историческую
поэтику эпоса и романа» (М., 1986), «Историческая поэтика
новеллы» (М., 1990), «О литературных архетипах» (М., 1994),
М.Л.Гаспа
рова «Очерк истории русского стиха: метрика, ритмика,
рифма, строфика» (М., 1984), «Очерк истории европейского стиха»
(М., 1989), «Метр и смысл» (М., 1999), А.В.Михайлова «Проблемы
исторической поэтики в истории немецкой культуры. Очерки
из истории филологической науки» (М., 1989), «Языки культуры»
(М., 1997), «Обратный перевод» (М., 2000), а также
выпущенные под грифом ИМЛИ имени М.Горького сборники «Историчес
кая поэтика: итоги и перспективы изучения» (М., 1986) и
«Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного
сознания» (М., 1994). Здесь на обширном историко-литературном
материале, охватывающем не одно тысячелетие культурного
развития, поставлены масштабные и актуальные вопросы
эволюции художественных форм и типов жанрово-стилевого мышления.
Как замечает С.Г.Бочаров, именно «идея исторической поэтики <…> оказалась на наших отечественных путях самым естественным и плодотворным выходом из краха нормативно-школь ной марксистско-советской теории литературы; и в то время как в западной теории последних десятилетий сменяли друг друга одна методологическая революция за другой, наше новое теоретичес кое знание выращивалось изнутри исторических учений, при этом история античной и западных европейских литератур оказалась более активным полем такого выращивания, чем история русской литературы» 15. Сказано точно, в особенности в финальном «чем»: русская литература ещё во многом в ожидании «идеи историчес кой поэтики» 16.
В той или мере наследниками линии Веселовского стали Д.С.Лихачёв, Е.М.Мелетинский и особенно М.Л.Гаспаров. Область стиховедения, в которой работает последний, безусловно, в наибольшей степени располагает к жёсткому фактографизму и эмпиризму, к минимуму интерпретаций и максимуму научной точности и выверенности в специфическорм смысле этих слов; отсюда и демонстративное неприятие Гаспаровым круга идей Бахтина.
Е.М.Мелетинский в книге «Введение в историческую поэтику эпоса и романа» (сколь выразительно и ответственно-скромно это первое слово «введение») создаёт стройную и линейную систему литературной эволюции, очерчивая путь от мифа и сказки к роману. В этой системе каждая последующая форма сменяет предыдущую по достаточно строгому генетивному принципу, причём Е.М.Мелетинский всячески пытается избежать редукционизма
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.А.Шульц
Историческая поэтика и герменевтика
«Диалог.Карнавал.Хронотоп»,2000, №3—4
М.М.Бахтин в контексте русской культуры ХХ в.
66 67
последующей формы к предыдущей, что порой выливается, как кажется, в другую крайность — в утверждение слишком строгих и как бы непроницаемых границ между отдельными (по-разному друг от друга отстоящими) звеньями литературного процесса. Правда, на взаимоотношения неомифологических текстов XX века и классических форм мифа и ритуала это ограничение Мелетинский по понятным причинам не распространяет.
В «О литературных архетипах» того же автора задана несколько более динамичная и свободная картина исторической поэтики: выявлены константные повторяющиеся сюжетные и образные схемы. Существенным моментом стратегии Е.М.Мелетинского является также использование отдельных принципов сравнитель но-исторической школы (вслед за А.Н.Веселовским): ведь он привлекает не только относительно однородный материал европейских литератур, но и литератур Востока. Компаративистский элемент методологии Е.М.Мелетинского, в той мере, в какой он реализован, подразумевает не только выстраивание определённой линии жанрово-литературной эволюции, но проведение чистых аналогий (например, в третьей главе «Поэтики мифа» и отчасти во «Введнии в историческую поэтику…»).
Весомую роль в работах Мелетинского играет социологичес кий фактор: учёт особенностей той или иной общественно-эконо мической формации, повлиявшей на становление определённых художественных форм. Это означает не что иное, как тот самый «синтез философского мировоззрения с конкретностью и объективностью исторического изучения», о котором говорилось в работе Бахтина-Медведева 1928 года — в данном случае в основу положена марксистская философия.
Д.С.Лихачёв сочетает методологическую беспристрастность Веселовского с живым анализом «философии» того или иного художественного стиля и жанра, с историко-герменевтическими экскурсами из области древнерусской словесности в более поздние литературные эпохи (отступления о Гончарове, Достоевском, Салтыкове-Щедрине в «Поэтике древнерусской литературы»). Его работа «Смех как мировоззрение» прямо сориентиро вана на Бахтина (но избегает раскрытия собственной философии Лихачёва).
Идеи соединения исторической поэтики и герменевтики в
наибольшей мере нашли сочувствие у таких авторов, как
С.С.Аверинцев и А.В.Михайлов. Интересно, что А.В.Михайлов как
гер
манист ориентируется здесь не столько на Бахтина (тем более
не на Вяч.Иванова), сколько — напрямую — на традицию Дильтея
и Хайдеггера. Для него, в частности, актуальна задача воссоедине
ния в целостном научном описании, с одной стороны, истории
литературных форм (в воссоздании их «первоначально задуманно
го
смысла»17
— речь идёт именно о широком философском
контексте становления смысла), и истории теоретического
осмысления этих форм в критике — с другой. Последнее — тот
необходимый элемент целостности, который позволяет осветить
события светом самосознания, довершает полноту культурной ауры.
Посмертно опубликованная статья А.В.Михайлова «Современ ная историческая поэтика и научно-философское наследие Густава Густавовича Шпета» (см. названный выше сборник автора «Обратный перевод») показывает, что для него очень важен учёт и отечественной философско-герменевтической традиции в чистом виде, традиции, в силу ряда причин только открываемой нами (впрочем, также в той или иной мере связанной с германской, хотя в данной работе исследователь подчёркивает моменты отличия русской традиции герменевтики от последней) 18.
В работах С.С.Аверинцева важное место занимает момент метаисторического соотнесения изучаемых памятников античности и средневековья с общим контекстом европейской культуры, в том числе с сегодняшним духовным горизонтом. Аверинцев не «объясняет» значение того или иного памятника, но пытается раскрыть его духовный смысл в системе целого. Критика им отдельных идей Бахтина19 построена на чётко декларированном христианском мировоззрении (эксплицированном и в других работах), что не только не означает какого-то «сужения» горизонта исследования, но задаёт его глубинную основу, очерчивает специфические рамки.
Многообещающее понятие «историческая эстетика» предложено В.И.Тюпой (термин создан по аналогии с «исторической поэтикой») Оба термина являются коррелирующими: без постижения исторически изменчивых форм идеи искусства (в герменевтическом измерении) мы не постигнем и эволюции содержатель ных форм искусства 20.
Успешным развитием бахтинских идей выглядит различение генетической и ретроспективной версий исторической поэтики, предложенное в сборнике «Историческая поэтика: итоги и перспективы» 21. Если первая основана на движении от прошлого к
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.А.Шульц
Историческая поэтика и герменевтика
«Диалог.Карнавал.Хронотоп»,2000, №3—4
М.М.Бахтин в контексте русской культуры ХХ в.
68 69
настоящему и будущему, то вторая — на обратном, от настоящего к прошлому; разумеется, ракурс видения в каждом случае свой, и обнаруживаемые соответствия и связи получают специфические оттенки.
———————————————————
1 В многочисленных трудах Веселовского наблюдаются частые отклонения от его линейного замысла исторической поэтики: он активно работает с частными и оторванными от системы целого литературными явлениями.
2 Иванов В.И. Дионис и прадионисийство. 2-е изд.. СПб., 1994, с.261.
3 Там же, с.262. Критика (кое в чём не вполне убедитель ная) метода Иванова содержится в содержательной работе: Брагинская Н.В. Трагедия и ритуал у Вячеслава Иванова // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках. М., 1988, с.299—317.
4 Вспоминается удачное выражение классика философии XX века о «новом модусе научности, где находят своё место все мыслимые вопросы — о бытии, о нормах, о так называемой экзистенции» (Гуссерль Э. Кризис европейского человечества и философия // Гуссерль Э. Философия как строгая наука. Новочеркасск, 1994, с.126.
5 Иванов В.И. Дионис и прадионисийство…, с.261.
6 Эта связь неоднократно подчеркивалась: Szilard L. Карнавальное сознание, карнавализация // «Russian Literature», 1985, № XVIII; Мальчукова Т.Г. Наследие М.М.Бахтина и изучение античной литературы // М.М.Бахтин: проблемы научного наследия. Саранск, 1992, с.56 и в др. работах. Констатация этого факта, разумеется, не означает отсутствия определённого воздействия также и А.Н.Веселовского.
7 Попытки задним числом сблизить речевую
теорию М.М.Бахтина и формалистов предпринимались неднократно,
начиная от Ю.Кристевой и до Вяч.Вс.Иванова; они вызывают
сомнения, равно как и
желание свести две стороны конкретно
на территории исторической поэтики (с целью «реабилитации»
формалистов, — но нуждаются ли они в этом?):
Шайтанов И.О.
Бахтин и формалисты в пространстве исторической поэтики
// М.М.Бахтин и перспективы гуманитарных наук. Витебск,
1993, с.16—21. В качестве доказательства автор говорит о «словесном
понимании жанра» у первого и у вторых. Однако последние
игнорируют, например, такой конститутивный для Бахтина
момент, как направленность слова на предмет, как духовно-идеологичес
кий контекст слова и жанра.
Констатация же И.О.Шайтановым связи формалистической теории с замыслом Веселовского представляется справедливой.
8 Медведев П.Н. (Бахтин М.М.) Формальный метод в литературоведении. М., 1993, с.11.
9 Бахтин М.М. К методологии гуманитарных наук // Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979, с.371.
10 Бахтин М.М. Собрание сочинений в 7 тт. Т.5. М., 1996, с.377.
11 Хализев В.Е. Историческая поэтика: перспективы разработки // Проблемы исторической поэтики. Петрозаводск, 1990, с.8—9. В.Е.Хализев, признавая в качестве определяющего проект исторической поэтики в духе Веселовского, в то же время не против привлечения в рамки этого проекта методологии герменевтики.
12 Шкловский В.Б. Тетива. О несходстве сходного. М., 1971, с.257—296.
13 См. подробнее: Шульц С.А. М.Фуко и М.Бахтин (к сопоставлению понятий «археология» и «контекст») // XI Международ ная конференция. Логика, методология, философия науки. Вып.IV. М.—Обнинск, 1995, с.90—92.
14 Эта книга Д.С.Лихачёва содержит в себе в качестве основы его работу «Поэтика древнерусской литературы» (1-е изд. Л., 1967); весьма значимо, что автор модернизировал заглавие в направлении большего прояснения своих методологических принципов.
15 Бочаров С.Г. Предисловие. Огненный меч на границах культур // Михайлов А.В. Обратный перевод. М., 2000, с.11—12.
16 Среди исключений следует назвать прежде всего выдающиеся труды Д.С.Лихачёва, раздел «Переход от Гоголя к Достоевскому» из книги С.Г.Бочарова «О художественных мирах» (2-е изд. М., 1985), а из недавних исследований — книги С.Н.Бройтмана «Русская лирика XIX — начала XX века в свете исторической поэтики. Субъектно-образная структура» (М., 1997) и М.Н.Липовецкого «Русский постмодернизм. Очерки историчес кой поэтики» (Екатеринбург, 1997).
17 Михайлов А.В. Проблемы исторической поэтики в исто
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.А.Шульц
Историческая поэтика и герменевтика
70
«Диалог.Карнавал.Хронотоп»,2000, №3—4
М.М.Бахтин в контексте русской культуры ХХ в.
рии немецкой культуры. Очерки из истории филологической науки. М., 1989, с.44.
18 К сожалению, до сих пор не опубликован капитальный труд А.В.Михайлова «Методы и стили литературы».
19 Аверинцев С.С. Бахтин, смех, христианская культура // Бахтин как философ. М., 1992; Аверинцев С.С. Бахтин и русское отношение к смеху // От мифа к литературе. Сборник в честь 75-летия Е.М.Мелетинского. М., 1993.
20 Тюпа В.И. В поисках исторической эстетики // М.М.Бахтин: проблемы научного наследия…, с.34—45.
21 От редколлегии // Историческая поэтика: итоги и перспективы изучения. М., 1986, с.7.
Ростов-на-Дону
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
С.А.Шульц
Историческая поэтика и герменевтика