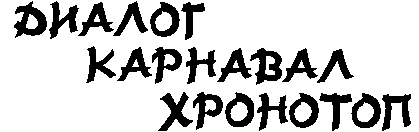Журнал научных разысканий о биографии, теоретическом наследии и эпохе М. М. Бахтина
ISSN 0136-0132
Диалог. Карнавал. Хронотоп. → 1998 → 1
55
Dialogue. Carnival. Chronotope, 1998, № 1
Клеменс Фридрих
Бахтин как философ различия
В ряде последних работ русских философов и в беседах с ними я столкнулся с некоей боязнью того, что индивидуальность и специфический характер философии Бахтина могут быть разрушены, если интерпретировать ее с точки зрения западных философских школ. На первый взгляд, моя интерпретация, содержащаяся в данной работе, может произвести именно такое впечатление. Но моя идея заключается не в том, чтобы включить теории Бахтина в более широкие и уже существующие школы мысли, но в том, чтобы показать, каким образом его оригиналь ные идеи ведут к специфической разновидности того философского события, которое могло бы быть названо философией различия. Мое исследование не состоит в прочтении текстов Бахтина и какого-либо другого философа параллельно. Напротив, я утверждаю, что сама внутренняя логика тем и идей Бахтина может быть прочитана как философия различия в оригинальной русской разновидности.
Итак, вопрос для меня заключается не в том, чтобы поддержать и защитить их бесспорную оригинальность, но в том чтобы выяснить, из чего состоит философия Бахтина как таковая. Ситуация предстает еще более сложной, если мы принимаем во внимание то, что одобрение некоторых наиболее важных положений Бахтина заставляет нас принять существующие различия в интерпретации его собственных идей. Если мы, следуя идеям Бахтина, утверждаем, что каждая интерпретация добавляет что-то новое и должна делать это, то сама идея сохранения оригиналь ности без принятия каких-либо сторонних добавлений кажется наихудшим путем следования Бахтину. Это не означает, что все интерпретации оправданы самим фактом их существования. По отношению к текстам Бахтина нужно проявлять благожелатель ность, следуя принципу милосердия во всех интерпретациях. Но я утверждаю, что самая суть положений Бахтина заключается в том, что каждая хорошая интепретация должна открыть дотоле неизвестный аспект данного текста и расширить поле бахтинских
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Клеменс Фридрих
Бахтин как философ различия
Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1998, № 1
56 57
Dialogue. Carnival. Chronotope, 1998, № 1
идей.
Я предполагаю развить мой тезис в два этапа. Во-первых, я попытаюсь показать элементы философии различия в ранних не-лингвистических работах Бахтина. Они включают ряд его основных философских идей, хотя в более поздних работах они переходят в диалогическую философию языка. Во-вторых, я рассмотрю наиболее известные аргументы относительно диалогичности и полифонии голосов.
В своих ранних работах Бахтин разрабатывает довольно частную разновидность экзистенциальной философии. Основу любого морального решения ищут в глубине личного присутствия. Но это присутствие не является простой внутренней реальностью, так как оно окружено абсолютно уникальным контекстом, который наделяет действие отдельного индивида значением и смыслом (событие бытия). Проблемы моральных действий не могут быть решены при помощи абстрактного набора правил и предписаний, но только при помощи личностного решения, принятого в абсолютно своеобразных условиях.
Бахтин попытался сформулировать набор понятий для новой «prima philosophia», включающей в себя измененные взаимоотношения между логикой и теорией познания, с одной стороны, и эстетикой и этикой, с другой. Ранняя философия Бахтина не стремится к утверждениям истины или к поиску объективных ценностей, как это происходит в традиционной философии; она в большей степени направлена на решение экзистенциаль ных проблем. «Как принять ответственность за мою собственную жизнь?» — так можно сформулировать ее основной вопрос. Философия, которая ограничивается ответами на вопросы относительно истины, не может иметь законных притязаний на истинную философскую универсальность. Бахтин пытается разработать понятие бытия, которое наиболее близко к человеческо му существованию. Для него это бытие кажется полностью связанным с событием индивидуации, в особенности индивидуации отдельного человека существа.
Таким образом, Бахтин стремится к достижению
философской позиции, в соответствии с которой ни одна человеческая
индивидуальность не может скрыться за пустыми обобщениями,
которые для него — всего лишь чистые возможности. Вместо
этого каждый должен принять ответственность за свое существова
ние в поступках. Любое другое поведение, в особенности все
по
пытки искать гарантии в науке, приводят только к существова
нию, основанному на алиби, к жизни взаймы. В то же время
сила этой индивидуации придается событию бытия. Эстетика
приобретает большее значение, чем философская традиция, поскольку
Бахтин приписывает особенную силу индивидуации
процессу восприятия. Эти идеи необычайно важны для моей гипотезы,
так как в этой экзистенциально окрашенной метафизике содержится
развивающаяся философия различия: преобладание эстетическо
го и этического в процессе индивидуации происходит в
результате того, что бытие резонирует и находит свое воплощение
в каждом индивиде своеобразным и неповторимым образом, в
особенности в своей структуре восприятия и его оценках. Эта
концепция будет углублена в его теории диалога, разработанной
в рамках анализа романов Достоевского и Рабле.
Центральными фигурами всех ранних текстов, их «героями» являются «Я» и «Другой». Все бытие рассматривается с этой точки зрения, в этой фундаментальной конфигурации. Проблема «Я»/«Другой» разрабатывается с точки зрения противостоя щих друг другу сознаний. Основное отношение «Я» и «Другого» показывает, что «Я» могу видеть «Другого» таким образом, который остается всегда недоступным «Другому». Бахтин называет это избытком ви́дения. «Другой» предстает на фоне, очерчивающем его контуры, но эти контуры определенности не могут быть увидены другим и остаются доступными только «Я», наблюдающему «Другого». Несомненно эта конфигурация может быть изменена, тогда «Другой» будет видеть мои контуры, недоступные для меня, и т. д. Но главное заключается в том, что оба способа ви́дения остаются неразрешимо несопоставимыми. Не существует места, где они могли бы встретиться, они могут только бесконечно меняться местами. Итак, внимание Бахтина к понятию ви́дения постоянно репродуцирует оппозицию «Я» и «Другого».
Присутствующее в самом себе «Я», начальный и финальный пункт любого переживания, будет рассматриваться только в его стратегическом смысле, а не в сущности. Мышление, основанное на свидетельстве «Я», имеет то преимущество в сравнении с абстрактным логическим способом мышления, что оно не абстрагируется от конкретного места, на котором должно стоять каждое «Я», места, которое заставляет его казаться всем миром и которое придает уникальную и неповторимую форму все
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Клеменс Фридрих
Бахтин как философ различия
Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1998, № 1
58 59
Dialogue. Carnival. Chronotope, 1998, № 1
му его ви́дению мира. Единственность события «Я» делает невозможным полностью передать его объекту, но все «Другие» должны всегда представать передо мной в этой форме. Даже стремление погрузиться в других не приводит к успеху, так как я никогда полностью не достигну точки зрения, присущей «Другому».
Считается, что понятие «Я» у раннего Бахтина несет на себе бремя индивидуации, единственность отдельного человека заключается в этом фокусе всех действий, желаний и чувств. Субъективность предстает как внутренний фактор, как фокус мировоззрения, как граница мира. Жизненное переживание кажется непоколебимой внутренней уверенностью, которая всегда присутствует в определенной форме. По Бахтину, внутреннее ощущение себя и жизни для себя всегда остается во мне как воображаю щем и видящем.
Если начало мышления лежит в этом внутреннем присутствии в акте ви́дения и репрезентации, то единственной проблемой становится то, каким образом это «внутреннее Я» может быть переведено во внешнее выражение.
Если в ранних работах Бахтина проблема состоит в той трудности, которую испытывает «Я» при оставлении этого прекрасного самоприсутствия, в поздних работах его отношение изменяется коренным образом. В них он открывает то, что тот перевод, который он искал, уже существует, уже произошел в структуре высказываний. Теперь перед ним встает противоположная задача: что представляет собой внутренний мир высказывания, из чего в действительности состоит «Я» и каким образом можно получить к нему доступ, если не присутствием самих высказыва ний.
Повторяемость формулировок в ранних работах
Бахтина показывает, что проблема единственности бытия, которую он
ставит, не разрешена. Ему не удалось разработать достаточно
полную категориальную систему для решения поставленных
им проблем, поскольку он формулировал ее в терминах сознания
и внутреннего присутствия. Полная невозможность быть
достигнутым в нашем внутреннем присутствии другим показывает
узость его категориального аппарата. Концепция существования
как выбора и решения ведет к субъективизации философии.
Любой вопрос, требующий дальнейшего разъяснения, отсылается
обратно к повторяющейся формуле человеческой субъективнос
ти как чистого внутреннего присутствия и единственности
события, которое составляет
его1. По моему мнению, Бахтин
осознает слабость своего понятийного аппарата. Возможно, по
этой причине он не опубликовал
свои рукописи, и, возможно, это
послужило одной из причин изменения его философских интересов
в направлении исследования структуры языка.
Поздние работы Бахтина показывают достаточно своеобразный вариант «лингвистического поворота» в философии. Бахтин не создает завершенной теории знаков, слов, предложений и их взаимоотношений, он разрабатывает теорию того, как можно сделать язык открытым для новых значений и смыслов. Он пытается открыть почти метафизические причины невозможности закрыть это поле смысла и значения. Он не ищет новых универсалий после ослабления метафизики принципов и категорий, он не ищет подлинно безопасного и неизменного, он стремится найти те механизмы и расположения языка, которые открывают для говорящего коммуникационную ситуацию и могут меняться в соответствии со временем и ситуацией.
Основная концепция Бахтина относительно того, что он называет «высказыванием» и считает основной единицей языка, раскрывает мою мысль. Высказывание может быть любой частью языка, — знаком, словом, предложением, — постольку, поскольку оно функционирует как часть некоторой диалогической связи. Высказывание разрешает трудную проблему, к примеру, или напряжение между двумя или более участниками дискурса, оно придает им ценность. Оно распространяется в будущее, запрашивая ответ или оппозицию. Бахтин меньше интересуется эксплицитной идентичностью слова, чем единственностью события, которую обеспечивает каждое высказывание. Поэтому он уделяет наибольшее внимание контекстам, ситуациям и акцентам высказывания. Ориентация высказывания на различные контексты и их оценку в «акценте» или «теме» приводит Бахтина к фундаментальному разделению идентичного знака. Каждый знак должен быть перемещен из жизненного контекста говорящего в жизненный контекст слушающего. Элементарная форма коммуникации — не просто трансмиссия, поток сообщений, но трансформация. Поэтому Бахтин не интерпретирует разделенные высказывания, плюрализм дискурсов, вавилонское смешение языков как апорию или отчуждение, которые могут или должны быть разрешены, но как необходимое условие нашей свободы. Возмож
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Клеменс Фридрих
Бахтин как философ различия
Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1998, № 1
60 61
Dialogue. Carnival. Chronotope, 1998, № 1
ность постоянного создания новых способов связывания высказываний становится результатом нашего творчества.
Бахтин считает, что сталкивающиеся в диалоге точки зрения являются радикально внешними. Эта экстериорность происходит из основополагающей экзистенциальной ситуации, конфронтации личностных истин. Каждое высказывание направлено на другого человека, значение и смысл порождаются только в обход «Другого», они всегда настроены, окрашены, погружены в другое высказывание. Это другое высказывание переживается как чужое, оно уже занято акцентами других. Конкретная структура живого языка как диалога рассматривается как цепочка бесконечных ответов. Конструируя свое собственное высказывание, вы всегда соотноситесь с чем-то данным и никогда не начинаете с нуля.
Совершенно ясно, что настойчивое утверждение этой вненаходимости является метафизическим предположением. Бахтин может доказать только то, что каждое высказывание и оценка другого становится двухголосым при повторении его «своими собственными словами», что акт повтора уже содержит акцент на себя, каким бы он ни был незначительным. Сила этой акцентуации коренится в индивидуализации отдельного человека, в единственности события, которая дает жизнь чему-то совершенно новому. Природа не повторяет себя в отдельном человеке — вот основная метафизическая предпосылка.
Понятия незавершенности и вненаходимости используются в бахтинской философии как отправной пункт мыслительного процесса. Разделение партнеров по диалогу во вненаходимости речи не является философией завершения в смысле неизбежного несовершенства, но фигурой, которая намерена открыть метафизическое мышление. Причина этому — желание Бахтина сделать ситуацию знания, воли и существования открытой для важных изменений. Его теория имеет некоторое сходство с герменевтикой, так как Бахтин полагает, что каждая интерпретация должна вырвать высказывание другого из его подлинного контекста и перевести его в измерение своего собственного высказывания. Привнесение чьего-либо слова в собственный смысловой горизонт всегда несет на себе знаки борьбы и даже силы. Предположение относительно того, что бытие разделено на двухголосые высказывания, означает также критику традиционной метафизики.
Незавершенность значения в высказываниях связана с единственным существованием участников диалога. Тем не менее, мы не сталкиваемся с чистой относительностью, так как все смыслы кажутся связанными с внешней реальностью общества. Высказывания всегда взаимосвязаны, за высказывание индивида нужно бороться, отказываясь от присутствующего в текущий момент высказывания других и общества. «Слово как бы живет на границе своего собственного и чужого контекста» 2. Это означает, что контекст принадлежит не единичному говорящему, а ситуации, которая окружает по меньшей мере двух говорящих. Контекст индивидуализирует момент, место и окружение всего диалога, а не только говорящих людей. Индивидуальное высказывание говорящего относится к дискурсам, репертуарам, грамматикам, которые обеспечиваются данным моментом, временем, классом, социальным слоем, поколением и т.д.
Не только индивидуальность, но и истина высказывания находится на границе между двумя (или более) говорящими в интерсубъективном мире. Бахтин предполагает, что истина может быть обнаружена только в контакте с другим и только если она испытана и проверена другим. Цель диалога — не только распространить то, что уже совершенно известно или понятно. Напротив, в диалоге можно впервые обнаружить свою собственную личностную истину. Исходя из этого предположения, мы трансформируем диалог простых высказываний в диалог живых форм. Эти формы диалога связаны с социальными отношения ми, с вопросом социального признания, возможностью эмпатии с различными точками зрения и принятием различных образов жизни. Можно провести схематическое различие между двумя типами возможного отношения к другому: во-первых, это стремление включить каждую другость в систему собственного «Я» или, по крайней мере, ослабить ее, во-вторых, — стремление оставить другого в покое, не пытаясь изменить его.
Применяя свою концепцию полифонии самообнаруживаю щих оценок, Бахтин пытается остановить то, что он называет монологическим мышлением, которое угрожает открытости диалога и разноречию слова насильной унификацией и предписани ями. В бахтинской модели основная цель настоящего диалога и высказывания состоит не в консенсусе, а в одобрении различных вариантов при встрече с другим, взаимной проверки, раскрытия каждого интеллекта в проблему. Понятие диалога и его амбива
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Клеменс Фридрих
Бахтин как философ различия
Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1998, № 1
62 63
Dialogue. Carnival. Chronotope, 1998, № 1
лентности включает принятие стороны спора идей и точек зрения как подтверждение живых различий. Теория Бахтина постоянно отказывается от возможности разрешения конфликтов между человеческими оценками и желанными целями относительно «хорошей жизни» в конечном решении. Его «плюрализм» одновременно признает законные ценности, которые исключают друг друга и не позволяют сконструировать их объективное ранжирование. Тем не менее, он не придерживается крайнего релятивизма или бесформенного либерализма в теории, а, скорее, одобряет основополагающую человеческую ситуацию, основанную на структуре языка как встречающихся высказываний.
Индивидуация высказываний ведет к различиям в оценке акцентов, происходящих из внутреннего диалога высказывания. Бахтин рассматривает высказывание скорее как единицу смысла, морального взгляда на мир, даже как определенный образ жизни. Оценки, горизонты, акценты соревнуются во внутреннем диалоге слова. Главная проблема внутренней диалогичности содержит в себе приятие и предписание этических ценностей, моральных решений, приговоров, которые относятся к важнейшим жизненным ориентациям человека.
По Бахтину, мы не должны рассматривать факт различия и столкновения с различиями как вопрос выбора или решения, но скорее как основную сущностную ситуацию человеческого существования. Реальность языка и функционирование коммуникации принуждают нас верить тому, что мы должны быть различными. Мы постоянно сталкиваемся с этими различиями, они составляют часть нашего жизненного опыта. Как считает Бахтин, в многочисленных ситуациях, которые мы не выбираем, мы вынуждены трансформировать внешнее авторитарное слово (например, слово наших родителей) во внутренне убедительное слово. Принятие ценностей всегда предполагает нечто большее, чем простое копирование и продолжение, оно всегда означает различие, сдвиг, обновление. Основные процессы человеческого развития, такие, как создание идентичности путем обучения, включают как повторение, так и дифференциацию.
Бахтин полагает — и это еще одна причина, позволяющая
нам считать его философом различия, — что утверждаемая
универсальность этики и морали — как и всякой другой репрезента
тивной обобщенности понятий — подрывает различие
единичности. В соответствии с репрезентативной философией,
единич
ное индивидуальное существование не имеет истинной
независимой ценности в сравнении с повторяющейся структурой
понятий. Но Бахтин стремится именно к этой единичности,
которая не переменима, во всяком случае в сфере этики, и должна
заниматься «последними вопросами жизни». В этом мире личных
решений обобщенность может быть реализована только
формально (как это пытался сделать Кант). Самолегитимации жизни
не находят трибунала, судьи, который открыл бы их общую
ценность и оправдал или приговорил бы их. Поиск «истины» в
своей собственной жизни может быть поддержан только непосредствен
ными личными встречами с различными решениями, неразреши
мо чуждыми друг другу.
Это не означает, что мне не нужен другой для того, чтобы найти свою собственную «истину». Другой не может ни законно решить, что в действительности происходит со мной, ни предписать что-либо, ни полностью осудить меня, но он способен вдохновить мое собственное суждение обо мне своим высказывани ем, он оживляет мой внутренний диалог («микродиалог»), усиливая или ослабляя мои собственные судящие голоса. Наиболее интенсивным моментом человеческого понимания является не полное соглашение во всех областях жизни и этики, но создание ситуации, в которой становится возможным взаимная открытость друг другу. Успешный диалог, подлинное понимание друг друга, которое прорывается через солипсизм, является редким событием почти на границах жизни. Бахтин находил такие ситуации идеального человеческого понимания и субъективности, к примеру, в которой поиск такого рода понимания приводит иногда к его достижению. Идет борьба между разными голосами внутри каждого участника диалога, голос самообмана, который пытается легитимизировать себя путем лжи, сдерживается голосом другого, который просит мой скрытый истинный голос судить меня и выбрать между ложными и истинными притязаниями и ценностями. Возникает своего рода сократический проект, который предполагает моральное очищение в контакте голосов и дискурсов, но, тем не менее, не ищет истину в смысле объективности, общих правил и предписаний.
Итак, Бахтин предполагает открыть особый моральный порядок, расположение моральных идей в каждом человеке. В то же время, необходимо помнить свое признание различных решений моральных конфликтов, которые коренятся в естествен
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Клеменс Фридрих
Бахтин как философ различия
Диалог. Карнавал. Хронотоп, 1998, № 1
64 65
Dialogue. Carnival. Chronotope, 1998, № 1
ных различиях в существовании. Собственная внутренняя истина не может быть найдена в покорности общему социальному или даже более универсальному рациональному институту, она должна быть открыта в жизненном диалогическом контакте. Только конфликт и встреча с другим в языковых высказываниях могут открыть путь к этому «истинному внутреннему миру». Поэтому Бахтин сомневается в возможности и позитивной ценности принятия позиции независимого рефери, позиции третьего над оппозицией близкого и чужого значения и культуры, позволяющей судить другие значения и культуры. Все моральные вопросы должны рассматриваться внутри диалогического контакта. Оправдание, извинение, суждение обо всем, составляющем часть человеческого существования, оправданы только в диалогических отношениях, а не в объективирующем суждении, высказанном с позиции воображаемого третьего лица.
Бахтин, — а вместе с ним и каждый философ различия — не стремится к объективному суждению, он стремится к открытости, к приятию, даже к чистому восприятию другого, еще не искаженному принуждением судить и приговаривать. Сначала необходимо слушать, попытаться понять и принять другого. Тогда станет ясно, что «слияние горизонтов», предложенное в герменевтике и интерпретированное как трансформация своей собственной системы ценностей, не просто ведет к приятию другого с точки зрения узнавания, но в то же время включает остаток непреодолимой чуждости, которая напрасно просит уважения и признания. Именно поэтому горизонты не могут слиться полностью. Для Бахтина диалог не может закончиться частичным слиянием и последующим суждением, но отраженной другостью, то есть частичным приятием и частичным отрицанием.
Плюрализм человеческих ответов на «последние
вопросы» и разнообразие мировоззрений являются позитивными
фактами, которые могут на законных основаниях требовать уважения
и признания, поскольку они содержат возможность социального
обновления, составляя часть способности общества к
выживанию. Кроме того, присутствие «других» не только не
ограничивает индивида, но, напротив, расширяет его взгляды, дает
ему возможность расти и вдохновляет его на развитие своих
собственных способностей. Бахтин стремится поддержать эту амбивалент
ность другого: другой может быть угрозой, но в то же время
шансом расширения своих собственных возможностей. Отраженная
другость ослабляет оппозицию между «Я» и «Другим» и в то
же время не исключает ее из человеческого мира полностью.
Никогда нельзя полностью преодолеть инаковость. Эмпатия с
другим — это не раздражающий долг, а условие достижения свободы
в обществе. Только принятие решений другого может придать
обществу открытый характер, что ведет к свободе выбора в
экзистенциальных вопросах. В этом — громадное политическое
значение теории Бахтина, поскольку мы стремимся к созданию и
поддержанию нового пространства для свободы различия.
Берлин
Перевод с немецкого В.Малахова
1 Бахтин пишет о невозможности дать общее понятие события, его можно только прожить или описать эстетически.
2 См. Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, с.97.
The author attempts to show that the entire internal logic of Bakhtin's themes and ideas can be read as the coming-into-being of a philosophy of difference. Components of this philosophy are already visible in the early (non-linguistic) works, and then assume more finished form after the «linguistic turn,» as Bakhtin works out his theory of language, which opens them up to new meanings and implications. For Bakhtin, dialogue is accomplished not by means of a personal fusion (with the other) and a subsequent judgment, but by means of reflected otherness, that is, by partial fusion and partial rejection. This presence of the other does not delimit the individual but, on the contrary, broadens his consciousness, becoming in the process a condition for achieving freedom within the social world.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Клеменс Фридрих
Бахтин как философ различия